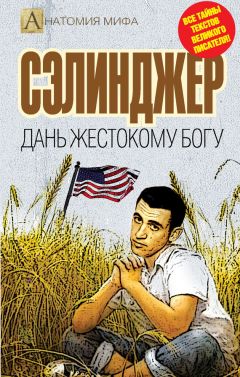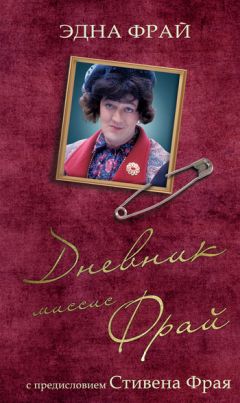— А откуда мне знать, где ты?
Солдат сказал:
— Как место себе выберу, крикну.
Сегодня окопа рыть не буду, отойдя от Ивза, подумал солдат. Не буду надрываться, ковырять глину лопаткой. Меня не убьет. Эй, вы, там, не дайте мне пропасть сегодня. А назавтра, ей-ей, вырою окопище на славу. А сейчас у меня все тело ноет, дайте я просто лягу где-нибудь и усну. Одну только ночь, хоть пару часов дайте. Тут он заметил окопчик, явно немецкий. Его покинул какой-нибудь фриц всего несколько часов тому назад, несколько нескончаемо долгих и дождливо-промозглых часов тому назад.
Натруженные солдатские ноги зашагали быстрее.
Подойдя, солдат заглянул в окоп, и душа с телом горестно возопили: на дне лежала грязная, но аккуратно свернутая форменная американская куртка, недвусмысленно указывая, что место «застолблено». Придется идти дальше.
Вот еще один немецкий окоп. Солдат торопливо заковылял к нему. Заглянув, увидел на сыром дне небрежно разостланное немецкое одеяло. Страшное одеяло: совсем недавно на нем лежал, может, исходил кровью, а может, и умирал неведомый ему немец.
Солдат бросил скатку подле окопа, снял с плеча винтовку, противогаз, вещмешок, каску. Встал на колени, напнулся над окопом, вытащил тяжелое окровавленное одеяло безвестно погибшего фрица, скомкал и забросил в густые кусты. Снова заглянул в окоп, увидел две темные отметины, там, где приходились края одеяла, достал из вещмешка лопатку, спустился в окоп и непослушными руками стал очищать дно. Закончив работу, вылез, развернул одеяло, сложил вдвое по длине и бережно, точно ребенка, опустил на руках в окоп. Затем взял винтовку, противогаз, каску и аккуратно разложил все на бруствере.
Потом откинул край одеяла и прямо в грязных ботинках вошел в свою «спальню». Снял куртку, бросил в изголовье, попытался лечь. Однако окоп оказался короток, пришлось изрядно подогнуть ноги. Солдат накрылся краем одеяла и откинулся грязной головой на грязную куртку. Взглянул на вечернее небо. Со стенки окопа за шиворот подло посыпались комочки земли, одни угнездились на шее, другие, щекоча спину, ниже. Однако солдат даже не шелохнулся.
Вдруг в ногу — чуть выше гетры — злобно и безжалостно впился рыжий муравей. Солдат хлопнул ладонью по ноге, чтобы расправиться с обидчиком, но Тут же отдернул руку и резко, со свистом втянул воздух — больно! Живо вспомнилось, где и как сегодня утром он лишился целого ногтя. Палец обожгло и заломило, солдат поднес руку к лицу и стал в полутьме рассматривать. Потом бережно и заботливо, словно занемогшего друга, укрыл всю руку одеялом и начал утешать себя знакомой всякому воюющему солдату самой солдатской белибердой.
«Вот вытащу руку из-под одеяла, а ноготь уже отрос, и пальцы чистые, и сам я весь чистый. На мне чистые трусы и майка, белая рубашка. Голубой галстук-бабочка. Серый костюм в полоску. Я приду домой и крепко-накрепко запру дверь. Сварю кофе, поставлю пластинку — и крепко-накрепко запру дверь. Буду читать книги, напьюсь кофе, наслушаюсь музыки и — крепко-накрепко запру дверь.
Открою окно, впущу девушку, милую, кроткую, не чета Фрэнсис или кому из прежних — и крепко-накрепко запру дверь. Скажу, походи просто по комнате, а сам буду любоваться ее американскими лодыжками. Скажу, почитай мне стихи: из Эмили Дикинсон — про неприкаянность и из Уильяма Блейка — про Агнца. И крепко-накрепко запру дверь. Я услышу, наконец, родной говор; она не будет вымогать жвачку и конфеты. И я крепко-накрепко запру дверь».
Солдат поспешно выпростал из-под одеяла руку, хотя не верил в чудо. И чуда не случилось. Он расстегнул клапан нагрудного кармана заскорузлой от пота и грязи гимнастерки, вытащил пачку замызганных газетных вырезок. Положил их себе на грудь, снял верхнюю, поднес к глазам. То была подборка новостей театра и кино — и, едва различая слова, стал читать:
«Вчера вечером мне крупно повезло, доложу вам. Заглянул я в «Уолдорф», хотел посмотреть на очаровательную Джинни Пауэре — она приехала на премьеру своего нового фильма «Яркое пламя ракет». (Очень советую посмотреть. Картина что надо!) Мы спросили юную звезду (она впервые попала в большой город с необъятных полей Айовы), чего бы ей больше всего хотелось в Нью-Йорке. И что же ответила наша отнюдь не спящая красавица? «Еще в поезде я мечтала встретиться в Нью-Йорке с простым славным парнем в солдатской форме. Так надо же! В первый же день в фойе «Уолдорфа» столкнулась нос к носу с Бабби Бимисом! Он майор в службе пропаганды, и их часть стоит не где-нибудь, а в Нью-Йорке! Надо ж, как повезло!» Вашему корреспонденту оставалось лишь промолчать. Повезло больше Бимису, подумал я и…»
Солдат скомкал вырезку, скатал ее в серый комок, собрал остальные и выбросил за бруствер. И вновь стал смотреть на небо, на французское небо, с американским его не спутаешь. Он глубоко вздохнул, а может, горько усмехнулся и воскликнул: «О-ля-ля!»
Вдруг, словно спохватившись, достал из кармана потертый конверт. Торопливо вытащил письмо и принялся перечитывать его в тридцать бог-знает-какой раз.
«Манаскуан, Нью-Джерси, июля 5-го, 1944.
Дорогой Бэйб!
Мама думает, что ты еще в Англии. А я думаю, что ты во Франции. Ты во Франции? Папа говорит маме, что он думает, что ты еще в Англии, а я думаю, что он думает, что ты во Франции. Ты во Франции?
Бенсоны этим летом приехали на побережье рано, и Джеки целыми днями торчит у нас. Мама привезла твои книги, она думает, что к лету ты вернешься. Джеки попросила две: одну, ту, что про русскую даму, а другую из тех, что у тебя всегда на столе. Я разрешила, ведь она сказала, что не будет загибать страницы и вообще. Мама говорит, что Джеки слишком много курит, и она пообещала бросить. Она перегрелась на солнце и болела, когда мы приехали. Она тебя очень любит. Она, наверное, свихнется от этого.
А еще я видела Фрэнсис, когда ехала на велосипеде. Я ее окликнула, но она не расслышала. Она большая зазнайка, а Джеки — нет, и прическа у Джеки красивше.
В этом году на побережье девочек больше, чем мальчиков. Их вообще не видно. Девочки без конца играют в карты мажут друг дружке спины маслом для загара, лежат на солнце. Купаются больше, чем раньше. Вирджиния Хоуп и Барбара Гизер из-за чего-то подрались и теперь на пляже сидят порознь. Лестера Брогана убили на войне, он был там, где япошки. Миссис Броган больше не ходит на пляж, разве что по воскресеньям, да и то с мистером Броганом. Они просто сидят на берегу, а ведь ты знаешь, как хорошо мистер Броган плавает. Я помню, как однажды вы с Лестером плавали до буйка и брали меня с собой. Я теперь плаваю до буйка одна. Диана Шульц вышла замуж за солдата-моряка, она ездила с ним на неделю в Калифорнию. Сейчас он в армии, а она вернулась, ходит на пляж одна.
Еще до нашего отъезда умер мистер Олинджер. Братец Тимерс пришел в лавку, чтобы попросить мистера Олинджера починить велосипед, а тот за прилавком мертвый. Братец Тимерс завопил и бегом в суд. Там его отец заседает с судьями и вообще. Братец Тимерс ворвался туда весь зареванный и как заорет: Папа, папа, мистер Олинджер помер!
Прежде чем уехать к морю, я вычистила твою машину. После Канады под передним сиденьем осталось полным-полно карт. Я положила их тебе на стол. А еще я нашла расческу. По-моему, у Фрэнсис была такая. Я тоже положила ее на стол. Ты во Франции?
Целую.
Матильда.P. S.
Ты возьмешь меня в следующий раз в Канаду? Я буду сидеть в машине тихо, отвлекать и болтать не буду, обещаю раскуривать для тебя сигареты, но затягиваться не буду.
С искренним приветом,
Матильда.Я очень соскучилась. Поскорее возвращайся домой.
Целую и обнимаю.
Матильда.Солдат бережно вложил письмо в засаленный, истрепанный конверт и спрятал в нагрудный карман. Потом чуть высунулся из окопа и крикнул:
— Эй, Ивз! Я здесь!
Ивз заметил его со своего поста на другом краю поля и кивнул.
Солдат опустился в окоп и сказал вслух, обращаясь неизвестно к кому:
— Поскорее возвращайся домой.
Рухнул на подстилку, неудобно поджав ноги, и тотчас уснул.
(перевод И. Багрова)
Я в грузовике вместе с моими солдатами, сижу на заднем борту кузова в ожидании лейтенанта из Отдела организации досуга и пытаюсь спрятаться от этого сумасшедшего дождя. (Здесь, в штате Джорджия, уж если польет, так надолго). Страшно неохота быть сволочью, да придется. С минуты на минуту. В кузове тридцать четыре человека, а на танцы можно взять только тридцать. Четверым придется остаться. Я уже решил, что вытряхну первых четверых справа. А пока, чтобы не слышать весь этот дурацкий галдеж, напеваю себе под нос «Мы улетаем в дали голубые».
![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)